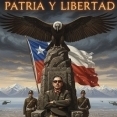
Автор: Каминский
в Мир Имперской Мерсии и Межрасового Иудейства (МИМиМИ),
«Эпоха семнадцати империй» - под таким названием в историографии этого мира принято обозначать период конца 14 – середины 16 вв. Страны, по которым получила название означенная эпоха, разумеется, сильно отличались друг от друга, в том числе и в плане могущества. Были в те времена и иные государства, порой богатые и влиятельные, превосходившие по многим параметрам некоторые из «17-ти империй». Но все же историографическая традиция сложилась так, что именно эти государства стали настоящими символами, в наибольшей степени отражая как дух эпохи в целом, так и специфику того или иного региона. Традиционно начнем с Мерсии, точнее, уже Мерсийской Империи, как она стала именоваться с конца 14-го века. Она включала Британские Острова, Норвегию, Рэйвенланд и обширные владения в Новом Свете. Также Мерсии принадлежал город Иггенсбург во Фландрии. После Полувековой Войны внутреннее устройство Мерсии претерпело существенные изменения: бретвальда из своеобразного арбитра между разными группировками мерсийской знати, стал полновластным монархом, единственным, кто сохранил королевский титул. Остальные короли бывшей Ноннархии были вынуждены довольствоваться титулами элдорменов и ярлов. Понравилось это, ясное дело, не всем, тем более, что такое нововведение сопровождалось не символическим, а вполне реальным урезанием прав бывших королей – прежде всего, через умаление прав уитенагемота. Должность оферэлдормена, выбиравшегося ранее уитенагемотом, упразднялась: наиболее важные полномочия переходили непосредственно бретвальде, а остальные должности распределялись между назначаемыми им чиновниками. Сам уитенагемот превращался в преимущественно совещательный орган, по крайней мере, когда дело касалось вопросов войны, внешней политики, престолонаследия и других значимых тем. В то же время, по другим вопросам, касающихся, например, сбора налогов или каких-то религиозных юрисдикций бретвальда был вынужден оглядываться на свой «парламент». Но и тут его роль нивелировалась расширением состава самого уинтенагемота за счет ярлов Норвегии, Ирландии, а также заокеанских владений. Все это затрудняло выработку единой позиции и позволяло монарху лавировать между разными группировками знати и жречества. Флаг Мерсии Впрочем, определенные ограничения все равно оставались: да, ряд полномочий переходил к назначаемым королем чиновникам, но сами чиновники могли набираться только из членов уитенагемота. Последний же комплектовался преимущественно из знати, причем потомки королей Ноннархии, обладали привелегированным статусом. Впрочем, со временем к ним были приравнены и ярлы Заката, наиболее влиятельные ярлы норвежцев, а также жрецы наиболее крупных святилищ. Оставшуюся часть уитенагемота составляла знать и жрецы рангом пониже, а также представители обладающих особым статусом городов Иггенсбурга, Кентербурга и Люнденбурга. Сами королевства Ноннархии остались почти в старых границах, да и правили ими родичи прежних королей, пусть и пониженных в статусе. Было несколько мятежей за возвращение старых порядков, но все они были относительно быстро подавлены: после жестокой гражданской войны мало кто желал возвращения времен, когда каждый монарх мог претендовать на титул бретвальды. Жречество, напуганное вторжением иноверцев, подерживало усиление королевской власти, также как и ярлы заокеанских владений, нежданно-негаданно сравнявшиеся с давними соперниками. Кроме того, бретвальда создал себе опору в Эйренланде: в уинтенагемот вошли тамошние земельные магнаты, потомки скандосаксонской знати, вступившей в брак со знатью ирландской – той, что приняла новую веру и новые порядки. Также право голоса получили и представители возрожденного, - а фактически реконструированного, - сословия друидов. Мерсийская Империя существует в тесном союзе с еще двумя государствами из «17-ти империй» - Лютью и Фризо-Данией (Фриданией). Появление последнего государства стало вынужденным компромиссом – Мерсии пришлось смириться с тем, что Фризия получает свободу и короля (одновременно и короля Дании). Впрочем, подобная щедрость окупилась прочным союзом между тремя государствами. Вызван он был как относительной общностью религии, так и четким осознанием общих угроз. Связи укреплялись династическими браками между монархами, да и прочей знатью, многие могущественные семьи имели владения во всех трех государствах. В мерсийском уитенагемоте несколько мест было у знати и жречества Люти и Фризо-Дании. Что же до внутреннего устройства, то в Люти сохранялось теократическое правление, а Фризо-Дания представляла собой монархию, с представительным органом (ярлтингом) из знати и жречества. Флаг Люти Еще одной влиятельной силой, окрепшей за время войны и выступавшей за теснейший союз трех империй, были фелаги: купеческие товарищества, фактически взявшие под контроль любую, мало-мальски значимую торговлю между тремя государствами и их владениями. Наибольшим влиянием данные товарищества обладали во Фризии, да и состояли в них, первоначально, в основном фризы. Впрочем, по мере расширения, фелаги вбирали представителей англосаксонских, скандинавских и лютских торговых кругов. Также в фелаги вступили и те карфагенские купцы, что после краха Лиги и смуты в собственно Карфагене не пожелали возвращаться на ставшую столь опасной родину, обретая новое место жительства и новое приложение своим капиталам. Это дало дополнительный импульс развития фелагам и, соответственно, повысило их значимость в экономике Северной Европы. Активно поддерживаемые правителями Тройственного союза («Языческого союза» как именовали его в христианских государствах), фелаги осуществляли коммерческие операции от Урала до Великих Озер, помогая, среди прочего, трем империям расширять свои владения. Потеря Мюркланда несколько застопорила этот процесс, но там, впрочем, Мерсия и раньше мало что контролировала. Зато появился стимул к дальнейшему расселению жителей Скреллинланда на запад, к северу от Великих Озер. Аналогично расширялась на восток, за Урал, и Лють. Удачным ходом, во многом инициированном фелагами, стало отпадение от Рейха Нормандии: в 1438 состоялась династическая уния Нормандии и Фридании, немало способствовавшая проникновению Фридании и Мерсии в Карибский бассейн и далее на юг. Флаг Фризии В плане религиозном мало что изменилось: преобладал одинизм ( в Люти – культ Мары-Хель), но с региональными нюансами. Так во Фридании ( и Нормандии) были популярно почитание Тора и богов-ванов: Ньерда, Фрейра и Фрейи, слившейся с местной богиней Нехаленнией. На Закате больше всего почитали Морских Богов. Существовало и множество мелких, местечковых культов, чисто формально связанных с господствующей религией. Как уже говорилось, «особая близость» между Мерсией, Фриданией и Лютью была вызвана, среди прочего, и необходимостью противостоять внешним угрозам. И первой среди таких угроз была Германская Империя. Из Полувековой войны Рейх вышел, пусть изрядно потрепанным, но изрядно усилившимся. Были уничтожены меркитские орды на восточных границах империи, крах потерпела и Карфагенская Лига. Под контроль Рейха перешла большая часть Италии, что означало и контроль над Святым Престолом: отныне папы избирались под присмотром кайзеров. Рейху отошел также ряд городов Карфагенской Лиги, крупнейшими из которых были Марсель, Генуя и Барселона. Эти города, получившие определенную автономию, сохранили свое внутреннее устройство, а сложившаяся здесь торговая олигархия дала мощный толчок всей экономике Рейха. Также как и вхождение в состав Рейха Бретани и захват Борда – новые порты и верфи способствовали бурному развитию имперского мореплавания, что, в свою очередь, облегчало германскую колонизацию Нового Света. Так, в союзе с Иберией, опираясь на флот Бретани, Васконии и Нормадии, а также на союз с Авалоном и рядом индейских племен, Рейх, в ходе ожесточенной войны сокрушил Мюркланд. На его месте появилась Новая Швабия: воинствующее теократическое государство, вассальное Германской империи и вобравшее три, наиболее значимых, военно-религиозных ордена Рейха. Что же до Европы, то здесь: после гибели последнего из «лангобардских пап» Дезидерия и его наследника Фероальда, объявленного самозванцем, Орден Святого Михаила был упразднен. Большинство орденских земель вошли в «домен кайзера», какие-то владения достались герцогствам. Последних, кстати, стало гораздо больше: так из Баварии, в наказание за мятеж, было выделено отдельное Герцогство Моравское со столицей в Праге. Герцогом стал один из бывших комтуров Ордена Святой Вальберги, перешедший по такому случаю, из духовных владык в светские. Аналогично и земли Ордена Святого Витта превратились в Герцогство Померанию – первым герцогом стал князь Волина, а первосвященник Арконы сохранил светскую власть лишь непосредственно на Рюгене. Еще одно новое владение, Иллирия, было создано из бывших владений всех трех Орденов в Боснии. Однако самое большое новое герцогство образовалось из западных земель бывшего Улуса Чжэлме: учрежденное здесь Герцогство Паннония, очищенное от кочевников, активно заселялось германскими поселенцами из внутренних областей империи. Также в Паннонии расселялись ариане, сохранившиеся здесь со времен Аварского Каганата. Загнанные меркитами в Карпаты, ариане подвергались столь свирепым гонениям от ханов Улуса Чжэлмэ, так что были рады и приходу кайзера – пусть и из иной, «еретической церкви». Имперские власти, в первые десятилетия после присоединения Паннонии, проводили к новым подданым достаточно веротерпимую политику. Герцогом Паннонии, как и Иллирии, являлся сам кайзер. В новых герцогствах он обладал даже большей властью, нежели в своих исконных владениях, где ему приходилось нет-нет, да оглядываться на знатные рода, ведущие свое происхождение со времен Лангобардской Римской империи, а то и Королевства Аквитании. Новые герцогства на востоке заселялись самыми верными сторонниками кайзера, зачастую из бывших братьев-монахов Ордена Святой Вальберги, сохранивших свою преданность императору и после упразднения Ордена. Обретение наряду с императорским еще и герцогского титула позволяло кайзеру усилить контроль над восточной частью империи. Исторически Рейх делиллся на собственно «Кайзерланд» и «герцогства», занимавшие территорию «к востоку от Рейна». И хотя герцоги, как вассалы кайзера, считались частью империи, у них имелись свои представительные органы, оставшиеся еще со времен меркитского владычества. Эти структуры, пользующиеся немалой автономией, долгое время мало контролировались кайзером. После того, как сам кайзер получил герцогское достоинство, он стал активно вмешиваться в дела этих структур, используя оба своих титула. Итогом стало создание в 1427 году Рейхстага, как высшего совета, в который вошли представители знати ( не только герцоги, но и графы с князьями), духовенства, а также «имперских городов». Бессменным председателем Рейхстага, обладающим широкими полномочиями, стал кайзер. Что же до религиозной жизни империи то самыми мастштабными изменениями стало переподчинение всех церковных структур понтифику в Риме и упразднение, вместе с секуляризацией, военно-монашеских орденов, а также подчинение Риму бретонской церкви. В остальном религозная жизнь Рейха осталась более-менее прежней – все тот же причудливый, во многом стихийный, симбиоз христианства с язычеством. Даже ариане поначалу не представляли угрозы спокойствию империи. Лишь изредка отмечались выступления разного рода эгалитаристских сект – духовных наследников барфоломеитов, - да кое-где по углам таились недобитые приверженцы Бхайравы и Цернобока. Присоединение городов бывшей Карфагенской Лиги, а также обретение контроля над Италией дало толчок не только экономическому, но и культурному развитию Рейха. Еще в 1389 году в Трире появился первый в империи университет, названный в честь кайзера Атаульфа. Его основателем стал ренегат из карфагенского Лекториума, врач Адоунис Каленте. В дальнейшем подобные учебные заведения появились и в иных крупных городах империи. Впрочем, тут Рейх не был чем-то уникальным: другие беженцы из Карфагена в 1395 году учредили университет сначала во Фризо-датском Антверпене, а в 1419 и в мерсийском Кентербурге. С обретением контроля над Римом, Германская Империя получила полное право добавить к своему названию еще и «Римская» - что Рейх и делал, с немалым удовольствием. Более чем закономерно, что главным врагом этого Рима стала Карфагенская Тирания. Тиранический режим установился в Карфагене по итогам ожесточенной гражданской войны, закончившейся лишь после династического брака между влиятельными кланами Рамий и Барбов. Отпрыск союза этих родов, получивший символическое имя Магон, стоял у истоков установления наследственной монархии – «тирании» в Карфагене. Ядром данного государства, как ранее были Карфаген и Сицилия, также в состав тирании входила большая часть побережья Северной Африки, южная Испания, Южная Италия, Сардиния и небольшая территория на Балканах (Эпир). Свое подданство к Карфагену признавал и ряд берберских племен. Кроме того, Карфаген обладал обширными владениями в Новом Свете, пусть и изрядно уменьшившимися после смуты и отпадения от Лиги Нормандии. Тем не менее, Карфагенская тирания еще удерживает многие острова в Карибском море, а также развивает активную экспансию на южный континент. Кроме того, карфагенские суда продолжают плавать к берегам Африки, закупая там чернокожих рабов. Государственный строй сильно изменился – на смену союзу формально свободных городов пришло централизованное государство, хотя региональные элиты все еще имеют немалое влияние. Фактически, как уже говорилось, Карфаген это монархия, хотя формально восшествие нового тирана утверждает Сенат, состоящий из глав наиболее влиятельных семейств: купцов, банкиров и крупных землевладельцев, а также местного духовенства. Государственная религия – католичество, что приводит к достаточно парадоксальным сочетаниям: отныне, формально, у Карфагена одна религия с Германским Рейхом, что не мешает им оставаться злейшими врагами. Одновременно Тирания крепит союзы с откровенными язычниками, вроде Мерсии и Фридании, а также ищет новых союзников везде, где только может. Одним из таких союзников может стать Иберия – пусть в Полувековой войне она была союзником Рейха, тем не менее, возрастающая мощь Германской Империи пугает здешних королей. Чтобы противостоять германской гегемонии, Иберия готова даже забыть о притязаниях на самую южную часть Пиренейского полуострова, все еще остающуюся у Карфагена. Сама Иберия занимает остальной полуостров, за исключением Барселоны. Вассалом Иберии является королевство Васкония. Ее жители – умелые мореходы, чьи корабли стали костяком иберийского флота. Во многом именно благодаря васконам, Иберия начала колониальную экспансию в Новом свете, в частности, в 1432 объявив своим владением полуостров Калусия (Флорида). Сама по себе Иберия – католическая монархия, во многом схожая с РИ-Испанией и Португалией. Что же до Васконии то это диковатое королевство, с множеством архаичных обычаев и причудливых пережитков. Флаг Иберии Еще одним соперником Рейха является Александрийская Империя. Во второй половине 14-го века это государство переживало не лучшие времена: вторжение Ногая положило конец владычеству Александрии над Месопотамией и Сирией – и даже после смерти «Великого Моргота» эти земли не удалось вернуть. В 1382 году под стенами Антиохии был разгромлен и попал в плен к мадьярмянам император Феофил III, подписавший позорный Дамаскский мир, отдававший Мадьярмении всю северную Сирию. После того, как в 1397 году умер сын Феофила Бутрос, последний совершеннолетний представитель династии, началась «императорская чехарда», когда императоров смещали и назначали по своему разумению царедворцы, прониары или даже чернокожие гвардейцы императора. Усилились и религиозные конфликты в империи. Поскольку многие прониары были не только не-коптами, но даже не-монофизитами, время от времени поставленные ими императоры пытались заменить монофизитство на халкидонитство в качестве государственной религии, что приводило к тому, что на религиозное противостояние накладывалось также и этноконфессиональное. Рост религиозного фанатизма с обеих сторон приводил также к преследованию мусульман, из-за чего начало XV века ознаменовалось массовыми мусульманскими восстаниями, приобретшим особый размах в Нубии. Параллельно этим событиям в восточном Средиземноморье происходил распад Карфагенской Лиги – греческие города на островах и на континенте, образовали так называемую Эгейскую лигу, в которой верховодила местная олигархическая верхушка, ранее тесно связанная с Карфагеном. Одновременно происходил распад и Румского Ханства, где на Балканах и в Малой Азии порабощенные народы восставали против меркитского господства. Тон в этих восстаниях задавали прежде всего греки, а также арумы, превратившиеся в значимую военную силу на Балканах. Лидером «Эгейской Лиги» стал архонт Мореи, Мануил Коркондилос, представитель одного из древнейших греческих родов. Именно ему удалось возглавить национально-освободительное движение народов Балкан и Малой Азии, против одновременно меркитов и Карфагена. С 1378 по 1401 год были последовательно освобождены материковая и островная Греция, включая и греческие города Малой Азии, а также Македония и Фракия, где греческие войска действовали в союзе с арумским ополчением. Апофеозом стало взятие Ханбаалика в 1397 году, вернувшего, по такому случаю, историческое название Константинополь. Сам Мануил уже подумывал объявить себя императором возрожденной Византии, однако с северо-запада уже двигались на восток войска Рейха, внушавшие серьезные сомнения в возможности архонта остоять новые владения в одиночку. И тогда Коркондилос обратил свое внимание на раздираемую внутренними раздорами Александрийскую империю. Породнившись с императорской семьей через брак своей дочери с малолетним наследником Константином, Мануил получил отличный предлог для вмешательства во внутренние дела империи. В 1405 году он высадился в Александрии во главе 40-тысячной армии состоявшей, преимущественно, из греков и арумов. Последущие четыре года он, объеденившись с местными сторонниками Константина, жестоко подавил все мятежи и восстания, по сути, заново собрав уже начавшую распадаться империю. В итоге уже к 1410 году он стал фактическим правителем исполинского государства, от Босфора до Эритрейского нагорья. Тогда же заставил все имеющиеся церкви объедениться под главенством Александрийского патриархата. Внутреннее устройство Александрийской империи не особо изменилось, однако сильно сместился этнический баланс в ее правящем классе: коптов, не говоря уже об эфиопах, потеснили греки, составившие костяк, как вооруженных сил, так и в целом верхушки империи. Также в армии Александрии появилось множество арумов, получивших наследственные пронии по всей империи. Сами же влахи-арумы, встали во главе двух балканских государств – Арумунии и Македонии, с греко-влахской верхушкой и славянским, большей частью, простонародьем. В противовес им иное государство, появившееся на развалинах Румского Ханства, - вернувшая свое исконное название Рашка, - было практически чисто славянским, хоть и вассальным по отношению к Рейху. На Балканах пролег фронт соперничества между двумя империями. Что же до Румского Ханства то оно сохранилось лишь в центральной Анатолии, став своего рода буфером между Александрийской и Армяно-Венгерской империями. Строго говоря, на Балканах схлестнулись интересы не двух, а трех империй: вместе с католическим Рейхом и православной Александрией, свое влияние здесь распространяла и языческая Ульмигерия. Начало ее возвышения можно датировать 1367 годом, когда в подданство балто-славянской империи перешла Казарла – находящееся в низовьях Днепра военно-демократическое государство, созданное потомками хазар, славян и печенегов. Правители Ульмигерии не посягали на внутренее устройство Казарлы, а та, в свою очередь, предоставляла сильную кавалерию, способную на равных тягаться с меркитскими ордами. Впрочем, первой жертвой данного союза стали не кочевники, а Черный Крым: в 1368-70 гг он был завоеван, причем тамошнее кочевое население влилось в Казарлу. Что же до потомков Черного Отряда, проживавших на побережье, то из-за их свирепого сопротивления они были либо вырезаны, либо проданы в рабство. В Волго-Окском междуречье Ульмигерия поддержала восстание суватичей, - потомков тюркоязычных сувар и славянских племен вятичей и северян, - поднявшихся против меркитского государства Хушитаидов. Ульмигерия, помогая восставшим со временем поставила в зависимость города-княжения суватичей, расширив свою сферу влияния до Волги. Также были присоединены и иные территории Хушитаидов, вплоть до большой излучины Дона. А уже ближе к концу века Ульмигерия вмешалась и в войну Германского рейха с Улусом Чжэлме, присоеденив часть территорий последнего и поставив в зависимость осколок меркитского государства между Прутом и Дунаем ( так называемая «Дунайская Меркития»). Таким образом, в новый век Ульмигерия вступила огромным государством, раскинувшимся от Дуная до Западной Двины и от Дона до Вислы. Главным соперником Ульмигерии выступал Германский Рейх: по сути повторялась ситуация десятого века, когда Лангобардской империи противостояло государство объединенных славян, в иноземных источниках обычно именуемое «Славия». Кстати и Германский Рейх и Ульмигерия позиционировали себя наследниками участников тогдашнего противостояния. Геополитическое соперничество накладывалось на религиозный антагонизм, поскольку, при всей причудливости германского католичества, немцы считали себя именно, что христианами, противостоявшим язычникам. Внутреннее устройство Ульмигерии тоже претерпело определенные изменения. Непрестанные войны привели к возвышению воинского сословия, славянских и балтских князей. Среди них выделялся князь Альгирдас, из знатного галиндского рода. Именно он, в 1385 году, воспользовавшись смертью криве-кривайтиса, вмешался в процесс избрания нового верховного жреца. Им стал брат Альгирдаса Геркус – брат младший, во всем слушавшийся прославленного родича. Альгирдас объявил о возвращении к «заветам старины», временам братьев, Брутена и Видевута, - первого жреца и первого князя пруссов. Соответственно, Альгирдас призвал к разделению духовной и светской власти, представителем которой он видел, прежде всего, себя – и у него нашлось достаточно сил, чтобы заставить остальных признать эти новшества. Благо военная знать давно тяготилась жреческим диктатом и с готовностью поддержала князя. Такой же порядок продолжался и впоследствии: наследственная власть великого князя, брат которого всегда становился Криве-Кривайтисом, верховным жрецом Ромове. Если же у князя не находилось брата, то свершался обряд побратимства, причем кандидата для столь важного действа князь, выбирал сам. Так на смену теократии, в Ульмигерию пришло более-менее четкое разделение духовной и светской власти, одинаково значимой для государства. Перераспределение власти Альгирдас сопроводил переносом столицы – из Ромове в Полоцк, представлявшийся ему более удобным для контроля столь обширного государства. Ромове же осталось религиозным центром, местом пребывания криве-кривайтиса. Альгирдас всячески подчеркивал преемственность столиц: в Полоцк был, со всеми полагающимися обрядами, препровожден священный огонь из святилища в Ромове. Отныне он горел в Полоцком храме, где почитались три главных бога Ульмигерии: Перконс-Перун, Пеколс-Велес и Потримпс-Ярила. Вся власть в Ульмигерии отныне принадлежала великому князю, носившему также титул «володарь». Ему подчинялись князья и иные крупные феодалы, управлявшие отдельными землями. Володарь мог вести международные дела, вступать в союзы, объявлять войну и мир, руководить военными силами. Ему принадлежало право законодательной инициативы, от его имени издавались все важные законодательные акты. Созданный в начале 15 века сейм, куда входили феодалы, занимавшие высшие государственно-административные должности, являлся исключительно совещательным органом. Реально власть князя ограничивалась только жречеством, имевшим свою иерархию и своего главу. Поскольку князь и криве считались членами одной семьи (не важно, реально или символически), то и лишение кривайтиса части светских полномочий прошло относительно безболезненно. Напротив, жречество становилось опорой князя в борьбе против местных феодалов - но и сами жрецы всегда могли рассчитывать на защиту володаря. В крупных городах наместниками володаря становились воеводы, назначенные, как правило, из местной знати. Их назначение формально никак не зависело от позиции остальных феодалов, хотя, конечно, на практике бывало по-разному. Единственным исключением стал Крым - туда назначался воевода прямо из Полоцка, как правило, не связанный с местным населением. В особом режиме существовали земли Казарлы, имевшие свою автономию и выборных атаманов. Большое влияние среди них имели жрецы Сварога-Вайу (Вия).Суватические князья платили в Полоцк не сильно обременительную дань, а также обязались выставлять войско по приказу володаря. У них имелось великое вече в городе Китеже, однако при обсуждении наиболее важных вопросов всегда присутсвовал наместник от Великого Князя, причем решающее слово оставалось за ним. Дунайская Меркития управлялась собственными ханами, платившими дань Володарю и выставлявшая войско. Исповедовался тут более-менее ортодоксальный бхайравизм. К востоку от Ульмигерии начинается Большая Орда – преемник государства Хушитаидов, основанная Хо-Урлюком, ханом огулов. Имперскую значимость этому государству придавал во-первых, контроль за волжской торговлей, а во-вторых – союз ханов со жрецами Аджи-дархана, священного города, уступающего своей значимостью только святыням Тибета и Монголии. Во многом именно жречество, разместившееся на перепутье важнейших торговых путей, определяло политику государства, тогда как ханы выполняли функции, прежде всего, военачальников. Все вышеназванное придавало Орде куда большую устойчивость и долговечность, в сравнении со множеством иных степных орд, периодически возникавших и распадавшихся на огромной территории от Каспия до Байкала. В период наибольшего могущества власть ханов Большой Орды простиралась до Алтая, порой распространялась она и на разные государства Средней Азии, включая остатки державы Великого Моргота. Помимо кочевых орд дань ханам Орды платили народы Северного Кавказа, а также касаки, живущие в плавнях Кубани. Обладая широким самоуправлением, касаки неизменно выступали на стороне Орды во всех ее войнах. Именно благодаря касакам, с их развитым, по местным меркам, мореходством у Большой Орды имелось на Черном море что-то похожее на флот. И нужда в нем возникала чаще, чем могло бы казаться – ханы Большой орды, помимо прочего, старались поддерживать связь и с Румским ханством, приходя ему на помощь в момент внешней агрессии, то и дело ставя его под контроль. В среднем течении Волги притаилось Волжское Кугыжество: небольшое государство со столицей в городе Хулан. Основание его обычно относят к 1375 году, когда марийский князь («кугыж») Чоткар, воспользовавшись развалом Хушитаидского государства, внезапным ударом захватил город Хулан. Тогда же он женился на некоей знатной меркитке из младшей ветви Хушитаидов. Обеспечив тем самым свою легитимность, Чоткар основал новое государство, вобравшее земли мари, удмуртов, мордвы, а также осколки меркитских орд, еще ранее смешавшихся с потомками булгар. Новое государство, находясь на стыке границ Люти, Ульмигерии и Большой Орды, умело лавировало между тремя империями, не подчиняясь до конца ни одной из них. Религией Волжского Кугыжества стал сильно вульгаризированный бхайравизм, синкретизированный с языческими верованиями волжских финнов и тюркским шаманизмом. Одной из самых могущественных империй того времени являлась Мадьярмения, она же Армяно-Венгрия. Ее возвышение началось еще во время походов Ногая, когда мадьярмянский царь Тигран, вовремя присягнув на верность «Великому Морготу» избавил страну от ужасов очередного меркитского нашествия. Более того, в походах Ногая армяно-венгры поучаствовали и в разгроме Румского ханства – главного врага Мадьярмении. Смерть Ногая, во-первых, освободила мадьярмян от иноземного ига, а во-вторых, привела их к ситуации, когда основные соперники: Исфаханское Государство, Румское Ханство и Александрийская империя были или уничтожены или, как минимум, сильно ослаблены. Тогда же начались и завоевания: так во время правления царя Смбата Воителя у Румского ханства были отбиты земли к востоку от реки Кызылырмак и Киликия. Сменивший Смбата в 1381 году Левон, обратил свой взор на юг. В ходе его походов в состав Великой Мадьярмении вошли северная Сирия с центром в Антиохии, Джазира и даже Нижняя Месопотамия с выходом к Персидскому заливу. Александрийская империя была слишком слаба, чтобы остановить мадьярмянский натиск, а образовавшееся в Иране государство шиитских сербердеров погрязло в войне с наследниками Ногая. Тогда же вассалами Мадьярмении стали Грузия и Албания. На завоеванных Левоном землях шла резня мусульман и меркитов. Царь делал ставку на ассирийцев (в Джазире) и мандеев (в Нижней Месопотамии), которым предоставлялась полная автономия во внутриконфессиональных делах – хотя политически Мадьярмения жестко контролировала эти земли. В 1399 году Левон скончался, и на трон взошел Вайк, сын Левона от взятой в походе на Антиохию наложницы. Новый царь, воспитанный матерью-сирийкой, с детства любил море, и соответственно, видел Мадьярмению, прежде всего, морской державой. Однако основы мадьярмянской талассократии он видел не на Средиземном и Черном морях, презрительно названных Вайком «греческими лужами», - здесь флот Вайка занимал больше оборонительную позицию, противостоя Александрийской Империи. Иначе дела сложились в Персидском заливе, где ловкий Вайк, сочетая как насилие, так и дипломатию, захватил Ормуз и установил протекторат над Бахрейном, Оманом и восточноаравийским побережьем, фактически поставив в зависимость Мединский Халифат. Пользуясь тем, что держава сербердаров была занята бесконечной войной с «морготами», Вайк монополизировал торговлю с Индией, которая после меркитского и тьямпанского погрома Китая превратилась в наиболее развитый и богатый регион планеты. Но, естественно, Индия привлекала не только мадьярмян. В 1394 году сербердарский Иран заключил мир с державой Великого Моргота, проведя восточную границу по Амударье. Теперь у сербердаров были развязаны руки для экспансии в Индию: к 1405-ому году они подчинили своей власти Пенджаб, Малву и Бенгалию. Опасаясь, что весь субконтинент попадет под контроль Ирана, Мадьярмения не только оказала помощь – деньгами, наемниками и флотом – индийским властителям, но и пошла на прямое вторжение в Иран одновременно с севера и с запада. Итогом армяно-иранской войны 1405-1409 гг, стал полный разгром сербедарского Ирана, с отторжением у него западных провинций, включая и собственно Парс. Восточная же часть Ирана, раздираемая феодальными склоками, на которые наслоились религиозные и этнические противоречия, погрузилась в смуту, усугубившуюся вторжениями кочевников и прочих охотников половить рыбку в мутной воде. Главным же выгодополучателем от этой войны стала Мадьярмения, навязавшая индийским правителям ряд неравноправных торговых договоров. Впрочем, торговлей дело не ограничилось. К концу первой четверти XV века мадьярмяне захватили Мальдивиские и Лаккадивскик острова; в самой же Индии были захвачены города Гоа, Диу и Мумбаи, а также большая часть Цейлона. Если какой-то раджа отказывался вести торговлю с Мадьярмений на её условиях, то его государство атаковал мадьярмянский флот. Во многих портах Индии появлялись мадьярмянские фактории. Мадьярмяне проникли даже в Индонезию, основав несколько концессий на Суматре и Яве. Однако здесь мадьярмянам пришлось столкнуться с враждебной коалицией местных государств. Тон в этом союзе задавали Соломоновы Острова – главный источник гвоздики, сандалового дерева, мёда и воска. В 1424 году скончался Вайк, прозванный Мореходом. Его сменил сын Арпад, в правление которого Мадьярмения простерла свое влиние и на Восточную Африку. После кровопролитной войны с Озерной Иудеей на побережье Юго-Восточной Африки был основан ряд опорных пунктов. Во многом это удалось благодаря союзу с Амхараштрой, испокон веков враждебной Озерной Иудее. Также Мадьярмения устроила колонии на Коморских и Сейшельских островах, где были разбиты плантации. Из Африки, - в первую очередь из союзной Амхараштры, - сюда вывозились тысячи черных рабов. Важную роль в колониальной экспансии Мадьярмении также играли мандеи, составившие большую часть моряков Индийского флота империи. Вершиной морского могущества Мадьярмении стал разгром в 1421-33 годах «индонезийской» коалиции, во главе с Соломоновыми Островами и раджой Ачеха. И хотя закрепиться в Индонезии Мадьярмении не удалось ( да она и не пыталась ввиду удаленности территорий), тем не менее множество прянностей и иных товаров, заполонили рынки Армяно-Венгерской империи, тысячи рабов были вывезены на островные плантации, а казна империи наполнилась золотом. В плане внутреннего устройства Мадьярмения представляла собой крайне милитаризированную, фактически абсолютную, монархию. В ней, правда, имелся «парламент», получивший древнее название «Ашхаражохов», где заседали сто наиболее богатых и знатных землевладельцев государства. Но по сути это был лишь законосовещательный орган, вобравший сливки высшего общества: от плантаторов Индийского океана и представителей товариществ, торгующих с Индией и Тьямпой, до землевладельцев Атропатены и городских патрициев Антиохии. Этот орган мог доводить до ушей монарха пожелания знати, но сам должен был смиренно выполнять волю царя, как первого защитника своих интересов. В целом главной особенностью внутреннего устройства Армяно-Венгрии была чрезвычайная централизация и милитаризация. Все были обязаны беспрекословно выполнять волю государства, воплощенную на высшем уровне в царе, а на более низком – в его воинах и чиновниках, и освященную Армянской Христианской Церковью. Тем не менее, несмотря на это (а может быть, благодаря) мадьярмянское крестьянство было, в основной своей массе свободным, представляя ресурс для набора пехоты. Кавалерия же комплектуется только из знати. Армяно-мадьярские короли одними из первых на Ближнем Востоке поняли пользу, которую может дать наука: уже к середине-конце XV века в армяно-венгерских владениях (в метрополии) было семь «домов знаний» ( Эривань, Басра, Антиохия, Тарс, Себастия, Багдад, Трабзон). Царская власть прилагала значительные усилия, чтобы выучить население хотя бы элементарной грамоте. Но то же время в стране отмечался и высокий уровень религиозной нетерпимости: фактически допускалось исповедание лишь разных толков христианства, прочие религии были запрещены. Впрочем, и не-павликианские христиане пребывали под подозрением, как «агенты влияния». В отношении иудеев, мусульман, бхайравистов и прочих законодательство было весьме сурово – за исповедание, а тем более переход в эти веры полагалась смертная казнь, как за «преступление против Христа». Впрочем, это касалось только территории собственно Мадьярмении, в остальных владениях Империи, все эти законы относилось лишь к армяно-венграм. Ну и само собой, все это не распространялось на нехристианских союзников и вассалов Мадьярмении: Амхараштру, Мединский Халифат, некоторых властителей Индии. Одной из особенностей армяно-венгерского государства была подчеркнутое стремление с одной стороны – не предаваться финансовым излишествам, а с другой – постоянно и всеми силами накапливать капитал. Всегда и везде Армяно-Венгрия понимала свое торговое проникновение как первый шаг к проникновению политическому ( получение для себя права судебного иммунитета, статуса привилегированного торгового партнера и т.д.), а затем – и к военному покорению данной территории. «Мы не можем воевать без торговли и торговать без войны» - сказал покоритель Ачеха и Тимора Ованес Ёрмоли в 1429 году, и это стало кредом всей армяно-венгерской политики. Фактически, Индийский Океан в первой половине 15 века чуть ли не монопольно контролировался Армяно-Венгрией. Однако в самой Индии, также как и на островах Индонезии, имелись свои державы, не дававшие означенной монополии стать абсолютной. Так в Индии немалым влиянием пользуется Тибетский Шенрабат. Это государство усилилось еще в первой половине 14-го века, поучаствовав в окончательном разгроме Меркитской Империи, а попутно захватив ряд провинций бывшего Китая. Помимо востока шенрабат развивал свою экспансию и на север: в ходе нескольких войн в 1370-80-х гг, под контроль Тибета попали уйгуро-найманские ханства. Так Тибет прочно встал на пересечении торговых путей, соединявших Среднюю Азию с Дальним Востоком. На западе вассалом Тибета стал Кашмир. Не забывалось и южное направление: после иранского вторжения в Индию, Тибет прибрал к рукам ряд индийских княжеств, ослабленных после иранского «погрома». Верхом же территориальной экспансии Шенрабата стал захват Бенгалии, благодаря чему Тибет получил выход к морю, а также завладел долиной Ганга. Вассалами Тибета стали и разные властители Бирмы. Внутреннее устройство Тибета мало изменилось со времен Меркитской империи: это по-прежнему жесткая теократия. Во главе жреческой иерархии стоит шенраб, первосвященник Бхайравы, жрецы-шены, рангом пониже, осуществляют власть на местах. Светских властей в Тибете нет вообще. Подобные же порядки распространены и в присоединенных к Тибету китайских провинциях. Что же до Бенгалии, Кашмира и прочих, то там сохранились свои монархии, но и они все правоверные бхайравиты. Тибет является священным местом для всех, кто верует в Бхайраву – ведь именно здесь пророку Бхайравананде открылось его жуткое учение. Это край темных монастырей, запретных городов и пещерных отшельников, что всю жизнь проводят в медитации. Даже из Румского Ханства и Дунайской Меркитии каждый год в Тибет отправляются паломники-бхайравиты, чтобы припасть к почитаемым святыням, а Большая Орда, помимо паломников, шлет еще и богатые дары – как и множество иных властителей, от Каспия до Тихого океана. Шенраб является духовным владыкой всех поклонников Бхайравы – и не раз случалось так, что владыки земель, весьма далеких от Тибета, посылали не только дары, но и войска, когда шенрабату угрожала та или иная опасность. Во многом, именно эта «власть над душами» позволяет обширной, но относительно малонаселенной и во многом отсталой стране, сохранять статус одной из «Семнадцати империй». Несмотря на обретение выхода к морю Тибетский Шенрабат не стал морской державой и даже не пытался ею стать. Иное дело – следущая держава из нашего списка, Тьямпанская Империя. Также поучаствовавшая в окончательной расправе над Меркитами, к середине 15 века, Тьямпа выросла в мощное государство, чье могущество основывалось, прежде всего, на контроле морской торговли между Мадьярменией, Индией, Японией и южными островами. Сама империя, помимо собственно Тьямпы, включала северный Вьетнам, Южный Китай, земли лао и кхмеров, - в том числе и немалую часть РИ-Таиланда, - Малаккский полуостров и острова Тондо (Филиппины). После того как Мадьярмения разгромила индонезийскую коалицию, Тьямпа распространила свое влияние также на Суматру, Яву и Калимантан. В плане внутреннего устройства Тьямпа представляет собой обычную восточную империю, причем в значительной, если не большей части ее владений, сохранялись местные монархии, несущие определенные повинности для императора Тьямпы. В стране существуют влиятельные торговые корпорации, на службе у которых находятся целые пиратские флотилии. С их помощью Тьямпа ведет необъявленную, но очень коварную войну против своих врагов – в том числе и против той же Мадьярмении. Не в последнюю очередь из-за Тьямпы, мадьярмянам так и не удалось закрепиться в Индонезии. В плане религиозном в Тьямпе преобладает буддизм, сильно перемешанный с бхайравизмом и более традиционным индуизмом, а также разнообразными местными культами Наиболее почитаемыми божествами являются Индра ( из-за чего многие правители носят имя Индравармана) и богиня моря А-ма. В империи имеются и небольшие общины христиан, мусульман и иудеев, хотя отношение к ним весьма прохладное. Еще одной дальневосточной империей является Япония. Освободившиеся от меркитов еще в 13 веке, в следующем столетии японцы внесли немалый вклад уничтожение Меркитской империи. В ходе войны, шедшей с 1333 по 1347 год, японцы заняли Корё, Ляодун и Шаньдун, а в Маньчжурии создали вассальное меркитское (Новомеркитское) ханство, поскольку опасались, что, уничтожив меркитов окончательно, чересчур усилят чжурчжэней, уже завладевших Приамурьем. Впоследствии, с помощью меркитов, японцы раздавили чжурчжэней, владевших к концу 14-го – началу 15-го вв Приморьем, Сахалином и Хоккайдо . Впрочем, контроль японского правительства над этими землями оставался довольно условным. Также со временем Япония присоеденила и немалый кусок Северного Китая. Японская империя соперничает с Тьямпой – если на суше их владения разграничивают небольшие государства, возникшие после краха меркитов, то на море война идет не на жизнь, а на смерть. Как и тьямпанцы японцы широко используют морских пиратов (преимущественно с Окинавы и прочих островов Рюкю), для ведения «тайной войны» против врага. Впрочем, наймом морских разбойников занимается не сколько государство, сколько тесно связанные с феодалами, храмами и непосредственно императорским двором торгово-ремесленные корпорации – дза. Что же до внутреннего устройства, то оно достаточно традиционно: монархия, во главе с «божественным тэнно», потомком богини Солнца Аматэрасу. В отличие от известной нам Японии тут не сложился институт сегуната: подобные конструкции, с сильным военачальником, фактическом правителем при бесправном императоре, слишком сильно ассоциировались с временами чжурчжэньского правления в Японии, когда фактически страной руководил чужеземный хан. Чжурчжэни же, помимо того, что и сами по себе были иноземными захватчиками, выступали еще и верными вассалами меркитских гурханов. Само собой это не добавляло им любви – и свержение меркитского владычества закономерно стало и борьбой за изгнание чжурчжэней, а позже вылилось и борьбу за восстановление власти тэнно во всем ее объеме. В этой борьбе активное участие приняло и сословие самураев, оттесненное во время чжурчжэней на второй план и поэтому выступавшее себе единым фронтом с тэнно. Правда, потом было несколько самурайских мятежей, пытавшихся установить что-то похожее на известный нам сегунат, но без особого успеха. В целом, тэнно удалось обратить воинственную энергию самураев вовне, чему способствовал открывшийся в Китае вакуум власти, оставшийся после «Великого истребления» и последовавшего за ним свержения меркитского владычества. Однако «меркитское иго» не прошло бесследно для Японии и его влияние осталось, прежде всего, в религии. Как и в РИ появилось множество монастырей, по типу тибетских, где упражнялись в боевых искусствах и умерщвляли плоть фанатичные воины-монахи. Созданные ими самурайские «кодексы чести», еще более жесткие и бескопромиссные, чем известный нам «Бусидо», точно также въелись в плоть и кровь правящего сословия Японии. Не исключая и императора – его божественная прародительница, богиня Аматэрасу, в эпоху меркитского владычества была переосмыслена, как Кали-Бхайрави, священная супруга Бхайравы, богиня войны и смерти. Был переистолкован и древний миф о богах творения Идзанаги и Идзанами, проинтерпретированных, соответственно, как воплощения Бхайравы и Бхайрави. Впоследствии богиня Аматэрасу была переистолкована как своего рода аватара Идзанами, владычицы Страны Мертвых - в полном соответствии с бхайравистской доктриной: «Видеть прекрасное в ужасном, видеть ужасное в прекрасном». По сути Идзанами-Бхайрави стала восприниматься как "ночная ипостась" Аматэрасу, более старшая и почитаемая, нежели дневная. Подобные воззрения наложили особый отпечаток на весь японский менталитет и особенно на его воинское сословие, фанатично приверженное этому «культу смерти», воспитывающему крайнее презрение как к своей, так и к чужой жизни. Обычным делом было принесение человеческих жертв во славу богини и тэнно, ее наместника и потомка на земле. Причем в жертву самурай мог принести и самого себя, если считал, что его чести нанесен непоправимый урон. Но обычно все же это делалось на войне – чем больше, тем лучше. Ведомые Японией войны на континенте предоставляли самураям широчайшие возможности для удовлетворения своих религиозных потребностей. Еще одна великая держава на Тихом Океане – Тонганская Империя. «Тонганская», впрочем, это своего рода «псевдоним» – фактическими основателями этого государства являются меркито-малайские пираты, бежавшие от Тьямпанской империи еще в 13 веке. Во главе переселенцев стоял Баян – потомок одной из боковой ветвей династии меркитских гурханов, названный в честь великого основателя представляемой им династии. Спасаясь от Тьмпы, он в 1270 году увел свой народ на юго-восток, после долгих скитаний явившись в Полинезию. Там бушевала война - правители Самоа восстали против Тонганской империи. Меркито-малайцы после некоторых колебаний примкнули к тонганцам при условии, что туи-тонга Талакаифаики выдаст свою дочь за Баяна. Также было оговорено право меркито-малайцев расселиться по всем островам Тонганской империи - и тем, что уже подчинялись тонганцам и тем, что покорятся впоследствии. Брак был заключен, самоанцы разбиты, а через некоторое время Талакаифаики умер и регентом при новорожденном правителе Тонганской империи стал Баян. Через несколько поколений меркито-малайцы смешались с полинезийцами, дав новый толчок расширению Тонганской империи. Мощный флот, вобравший в себя традиции как полинезийского, так и малайского судостроения, стал основой могущества новой великой державы. Вершиной здешнего кораблестроения стали громоздкие трехэтажные катамараны, оснащенные примитивными пушками. Для подержания боеспособности этого флота требовалось множество ресурсов, людских и материальных, коих не было в достатке на Тонга и прилегающих островах. Поэтому империя распространяла свое влияние по всем направлениям, на пике своего величия охватив чуть ли не всю Океанию. На севере полинезийской-меркитской династии подчинились вожди гавайцев и микронезийские Сауделеры, на востоке владения Тонга достигли Рапануи, на юге империи подчинились маори, ну, а на западе - правители Жемчужных островов. Этому направлению тонганцы уделяли особенно внимание: на берегах Австралии и Новой Гвинеи, они могли в достатке получить сырья и товаров для торговли с государствами Азии. Но тут же меркито-тонганцы столкнулись с Соломоновыми Островами, основанными потомками «черных иудеев» Аксума, в свое время прочно окопавшегося в Индонезии. Уже в середине 14-го века огромный флот, объединивший чуть ли не всех людоедов Океании, устремился на запад. Череда необычайно жестоких войн захлестнула южные моря, не прекратившихся и после появления кораблей Мадьярмении. Армяно-Венгрия, уже вступившая в конфликт с Соломоновыми Островами и собранными ими коалицией островных государств, быстро оценила возможности союза с Тонганской империей, помогая ей оружием и мастерами. Соломоновы Острова, не выдержав удара с двух сторон, пали, Мадьярмения заполучила огромную добычу и множество рабов, а Тонга - остров Тимор. Остатки Черного Отряда, - из тех, кто сумел спастись от работорговцев, - перешли на службу тонганским владыкам, привнеся имперское войско кровожадные традиции отрядов Акул и Крокодилов. Все это хорошо наложилось на религиозную традицию Тонганской империи, где полинезийская мифология смешалась с исповедуемым пришельцами бхайравизмом (синтезировавшимся с малайскими верованиями). Сам Бхайрава отождествился с богом Тангароа (Тангалоа, Танаоа, Таароа, Каналоа) - Повелителем Океана, Отцом Рыб и Пресмыкающихся, Великим Зловонным Кальмаром, Творцом и Великим Пожирателем Мира. Собственно и представлялся этот бог в виде огромного кальмара, исполинской акулы или крокодила, а также антропоморфного существа сочетавшего в себе признаки всех упомянутых животных. В свою очередь это наложилось на предания Тиморе, как острове возникшим на спине исполинского крокодила. В свое время иудейская верхушка Соломоновых Островов отождествила этого крокодила с Левиафаном, переосмыслив его как величайшее из существ, созданное Яхве, его карающую длань, мистически связанную, как с грозными силами моря, так и с самим островом Тимор. В тонганской картине мира Яхве был заменен Бхайравой-Тангалоа, непосредственно отождествленного с Тиморским Крокодилом. К середине 15 века Тонга почувствовала себя достаточно сильной, чтобы вступить в противостояние со старым врагом – Тьямпой. В этом ее поддерживали как Япония, так и Мадьярмения. Крах Островов Соломона («Тиморской Иудеи»), не поставил точку в истории местных жителей. Многие из них стали невольниками, предназначенными для тяжелой работы на плантациях Сейшельских (Григорианских) островов. Однако плантаторы, приобретшие новых рабов, как-то запамятовали о том, что ранее они приобрели невольников с Мадагаскара, где со времен Иудейского Аксума часть жителей исповедовала сильно огрубленную версию иудаизма. Найдя общий язык на почве религии, в 1435 году рабы-единоверцы восстали и, перебив своих хозяев, захватили их корабли. Не дожидаясь подхода мадьярмянского флота, восставшие двинулись к берегам Африки, где захватили город Новый Вагаршапат (на месте РИ – Момбасы) и воззвали о помощи к Озерной Иудее. Еще в начале 14 века эта страна считалась могущественной империей, простиравшейся от озера Туркана на севере до реки Рувума на юге, и от озера Танганьика на западе до Индийского океана на востоке. Но единство государства подтачивали религиозные распри – если царь Соломон, правивший в 1304 -1327 годах, насаждая твердое единобожие среди правящей верхушки, старался не трогать негритянские культы, то его сын Езекия начал правление с категорического запрета на отправление обрядов, посвященных кому бы то ни было, кроме Яхве. Это вызвало восстание, завершившееся свержением Езекии в 1330 году и восхождением на трон Аарона, представителя боковой ветви царского дома. Но вскоре сын Езекии Иосия, опираясь на сторонников из числа фалаша, расправился с Аароном и вернулся к власти, начав тотальный террор против тех, кто не отрекся от старых обычаев. В результате в 1332 году начался массовый исход на юг тех племен нгуни, что не приняли реформ Езекии и Иосии. Во главе с кузеном Аарона Ицхаком они сокрушили существовавшее во внутренних районах Южной Африки царство Мономотапа и в 1345 году захватили его столицу, Зембабве, где Ицхак и обосновался. Если Озерная Иудея после победы Иосии двинулась по пути дальнейшей монотеизации, то завоеванная «иудео-язычниками» Мономотапа – переименованная завоевателями в Зембабве – стала центром синтеза иудаизма с традиционными религиями Африки. Так, змей-искуситель был отождествлен с хамелеоном-обманщиком, сатана и злые духи – с зимви или карликами-абатва, а херувимы и серафимы – с духами-покровителями в зверином (бычьем и змеином соответственно) обличье. В Озерной Иудее Иосия, пережил несколько покушений, но остался непоколебим в своем твердокаменном монотеизме – также как и наследовавший ему в 1351 году сын Беньямин. Он не просто продолжил политику отца, но и в 1354 году, предпринял попытку похода на юг, чтобы покарать «отступников». Вторжение не удалось, иудейское Зимбабве отбило нападение, а Беньямину пришлось бесславно вернуться восвояси. В течение следующих семидесяти лет Озерная Иудея трижды пыталась атаковать Зимбабве, но без особого успеха, а в ходе войны 1412-1416 гг, Зембабве сумело организовать ответное наступление, наголову разбив флот Озерной Иудеи на озере Танганьика. Все эти войны, а также внутренние раздоры немало ослабили Озерную Иудею, когда в Индийском океане появились корабли Мадьярмении. Разгромив черных иудеев в нескольких войнах, мадьярмяне, действуя в союзе с Амхараштрой, основали ряд опорных пунктов на побережье. Наиболее значимым из них как раз и стал Новый Вагаршапат, ставший одним из главных рынков рабов на восточноафриканском побережье. В иудейском Зембабве расценили изменившуюся ситуацию в свою пользу – и в 1430 году уже Саул, царь Зембабве, повел войска на север. Кровопролитная война 1430-33 гг завершилась падением Озерной Иудеи и объединением двух афро-иудейских государств в единую империю. Саул принял титул «царя Иудейского, императора Аксума, Озер и Офира». «Офиром» в официальной титулатуре «южных царей» именовали Зембабве. Яркое свидетельство благоволения Яхве новой династии Саул увидел в восстании иудо-тиморо-мальгашских рабов. Мадьярмения была занята очередной войной в Индии и не смогла оказать должной поддержки своим владениям в Восточной Африке. В 1437-1441 гг Озерная Иудея вернула свои позиции на побережье. Мадьярмения, слишком занятая войной в других местах не нашла свободных войск, чтобы отвоевать все это обратно. Но и царь Саул не был настроен на дальнейшую конфронтацию. Отвоеванные участки побережья остались за Озерной Иудеей, но та обязалась выплачивать с этих владений небольшую дань, оставить несколько факторий и исправно поставлять мадьярмянам новых рабов. Спрос на «черное дерево» неуклонно рос, так что Озерной Иудее приходилось расширять и предложение. Впрочем, удобное положение в самом центре Африки открывало для этого немало возможностей. Еще при царе Соломоне началось проникновение Озерной Иудеи в бассейн Конго. Смута и войны несколько заторомозили этот процесс, но не остановили его, а уж со времени объединения двух иудейских государств, он начался с новой силой. К 1450-му году большинство здешних вождей, в той или иной степени, оказалось под влиянием, а то и в прямом подданстве Озерной Иудеи, получившей контроль над устьем Конго и выход к Атлантическому океану. Разумеется, в здешних условиях, царям пришлось забыть про свой воинствующий иудаизм – вместо этого проводилась политика «хамелеона»: перед иудейской верхушкой, потомками беженцев-фалаша, царь представал как «Лев Израиля», «десница Яхве», истый поборник единобожия, а перед черными племенами, как «вождь вождей», чья власть над неграми легитимизировалась в том числе и африканскими традиционными культами. Так или иначе, Озерная Иудея открыла поистине неисчерпаемый источник все новых и новых рабов, а заодно и новый рынок сбыта – к берегам Африки давно уже плавали работорговцы из Карфагена, Иберии и Нормандии, позже – еще и из Рейха. Однако тут Озерная Иудея заполучила сильного конкурента – Империю Ифе. Кратко напомним предысторию этого государства. Еще со времен вали Алафина в завоеванной Испании история Западной Африки шла по пути все более отличному от реала. Владыки Испании, сделав ставку на создание элитной «Черной Гвардии», спровоцировали начало транссахарской работорговли. Главным «передаточным звеном» стала Гана, торговцы которой совершали рейды далеко на юг. Позже были войны Биранина и Огботы, работорговля Черного Карфагена и походы лангобардов на Гану. Позже роль главного цивилизатора досталась Карфагенской Лиге, продолжавшей налаженную до нее торговлю. Так или иначе, под влиянием средиземноморской цивилизации возникли города-государства народов йоруба, игбо и других. Самым сильным среди этих государств стал город йоруба «Иле-Ифе», «Дом Ифе». И именно сюда пришли, после разгрома Иудейского Аксума, воины Черного Отряда - Питоны, Леопарды и Грифы. В частности Леопарды нанялись в армию царя (они) Ифе, но потом вождь наемников Ораньян сверг старого они и, женившись на его дочери, положил начало собственной династии. Со временем он покорил еще ряд городов йоруба: Ойо, Ову, Иджебу, Кету и другие. Другие государства, основанные предводителями Питонов и Грифов, появились в Бенине и землях Игбо. Пришельцы унаследовали существовавшую до них политическую структуру - абсолютную монархию с обожествленным царем. Языческая религия также была полностью воспринята ими - пусть за время своего существования Черный Отряд не раз менял внешне религию, ядром его идеологии всегда оставались традиционные африканские верования. Даже заимствования из иудаизма являлись довольно специфическими - так Эшу Легба, обманщик и трикстер, был отождествлен с иудейским демоном Асмодеем, а библейский Левиафан - со змеем Айда-Хведо. Как и его предшественники, Иле-Ифе быстро втянулась в торговлю с карфагенскими купцами, вскоре став для них основным партнером в регионе. Важную роль в этой торговле играла Нормандия, бывшая главным промежуточным звеном между городами Лиги и Западной Африкой. В 1336 году с одной из экспедиций за рабами увязался Арнульв, младший брат короля Нормандии, Джерарад. Арнульв отправился в Ифе не сколько из жажды наживы, сколько из желания посмотреть на Черные Земли. В Ифе Арнульв познакомился с Дикеледи - дочерью короля Ифе Обалокуна и командиром царской «амазонской» гвардии. Между молодыми людьми возникла интрижка, переросшая в половую связь. Об этом говорили по-разному: одни заявляли, что принц Арнульв соблазнил чернокожую красавицу, другие утверждали, что она была колдуньей и подмешала принцу приворотное зелье в пальмовое вино. Так или иначе, все это кончилось беременностью Дикеледи и рождением ею сына. В «амазонках Ифе», согласно обычаю, состояли только девственницы, а уж невинность самой принцессы представляла предмет особого внимания. И Дикеледи и ее сыну угрожала жестокая казнь, но ей удалось сбежать с Арнульвом в Нормандию. Их сын, названный Джерардом, в честь дяди-короля, вырос храбрым воином, участвовавшим во всех войнах Нормандии. Принимал участие он и в рейдах за рабами, как предлог, чтобы поглубже вникнуть в дела Африки. С раннего детства Джерард знал о своем происхождении и лелеял надежду на возвращение. Однако Ифе правил его кузен Биранин, который на встрече с Джерардом дал тому понять, что от царственного родича тот может ждать только мучительную смерть. Тогда наш герой зашел с иной стороны. Давний соперник Ифе, царь Бенина, Эвуаре, согласился выдать замуж свою дочь за Джерарда – хоть и бастарда, но все же потомка двух королевских семей. По слухам Джерард отвалил тестю за жену немало золота, которое он получил от торговых кругов Карфагена, немало вкладывавшихся в колонизацию Нового Света и организации там плантационного хозяйства. На эти же деньги Джерарад снарядил и отряд наемников из Нормандии, Васконии и Бретани. Опираясь на этих наемников, а также на войско Бенина, в 1363 году Джерард, после ожесточенного сражения, взял штурмом Ифе. Своего кузена Биранина он отдал на растерзание священным леопардам, а многих его сторонников Ифе продал работорговцам. Воцарившись и укрепившись в Ифе, после смерти своего тестя Эвуаре, Джерард захватил и Бенин, объявив себя царем сразу двух городов. Всех кто выступал против узурпации власти, Джерард также частично казнил, а частично продал в рабство. Таким образом, в 1364 году году Бенин и Ифе объединились в одно государство, причем его столица находилась в Ифе. На этом новорожденная империя не остановилась: еще в годы правления Джерарда было захвачено государство игбо, Нри. Сын Джерарда, Дакодону захватил царство Ашанти, а внук Глеле покорил воинственных Мосси. Но в 1395 году Глеле был убит вместе со своим сыном, заговорщиками-игбо, желавшими восстановить царство Нри. Единственным оставшимс в живых ребенком Глеле была его дочь Нтанда, свержение которой считалось делом времени. Но тут вновь проявился внешний фактор – и опять со стороны Нормандии. Она к тому времени уже была вассалом Рейха, под контролем которого, среди прочего, находилось Папское Государство – а также вассальное ему Герцогство Этрурия. Именно оттуда явился Рикард фон Оффенберг покинувший родной дом, чтобы отправиться в Новый Свет. По пути оказавшись в Нормандии, он решил принять участие в рейде за рабами, чтобы явиться в колонии уже при деньгах. Однако в Африке у Рикарда появилась новая идея и он, недолго думая, женился на королеве Нтанде. Опираясь на приведенных с собой наемников, Рикард вырезал врагов Нтанды, став формально консортом, а фактически подлинным правителем заново собранного им государства. Пример Арнульва и Джерарда приучил местных относиться с большей терпимостью к плодам таких браков, так что сын Рикарда и Нтанды, Герману, без проблема взошел на престол в 1424 году. Уже на следующий год он начал поход на королевство Хауса. В битве при Кано, он наголову разбил войско эмира Канема, также претендующего на эти земли. Победа над эмиратом необычайно возвысила Герману в глазах подданных и он, находясь на пике власти, славы и богатства, в 1430 году объявил о создании Империи Ифе, завершив тем самым процесс объеденения ранее враждущих городов-государств в единую могучую державу. Основой ее благостояния, как и прежде, оставалась работорговля. Впоследствии, как мы помним, Нормандия порвала с Рейхом, объеденившись с Фризией, но на империю Ифе это почти не повлияло – она просто сменила главного покупателя «живого товара». В Африке, конечно, имелись и иные государства – уже названный Эмират Канем, схожие с ним в плане религии и государственного устройства эмираты Гао, Дарфур и Текрур. Все они также занимались работорговлей – в основном с Карфагеном, а Канем еще и с Александрийской Империей. Каждое из этих государств имело шансы тоже выбиться в ряды империй, но частые войны между ними истощили эмиратов, не позволив объеденить силы для создания крупного исламского государства. Впрочем, большинство историков считает, что решающую роль тут сыграл личностный фактор – конкретно Джерарда и Рикарда. Да и то, если бы битва при Кано закончилась не в пользу Герману в число «Семнадцати империй» вошел бы Канем, а не Ифе. Однако судьба решила иначе – и на протяжении большей части течения Нигера возобладал вудуизм, а не ислам. Не вошла в почетный «Список 17-ти» и Амхараштра – государство созданное потомками переселенцев из Индии на землях бывшей Эфиопии и Сомали. Правящей кастой в этом государстве являлись потомки гуджаратских раджпутов, взявших жен из знати амхаров, принявших бхайравизм вслед за мужьями. Но, несмотря на немалую значимость этого государства в регионе, его обычно не включают «Семнадцать империй» по причине чрезмерной зависимости от Армяно-Венгрии и общей локальной замкнутости. Завершающее государство нашего списка появилось в иной части света, но его зарождение также напрямую связано с Африкой вообще и с описанными нами событиями в частности. А также с работорговлей – в пятнадцатом веке она переживала свой расцвет. Плантации с рабским трудом росли как грибы на островах Индийского Океана и Карибского моря. Мадьярмянские, карфагенские, иберийские, германские, мерсийские и фризские торговцы вывозили все новые партии живого товара, который будто гигантские насосы выкачивали из Черного Континента Ифе, Озерная Иудея, Амахараштра, а также эмираты Канем, Дарфур, Гао и Текрур. Разумеется, не все негры были согласны с участью невольников – особенно те, кто в недавнем прошлом принадлежали к правящей верхушке, сами, без зазрения совести, торгуя «черным деревом». Победы Джерарда привели к тому, что на невольничьих рынков оказалось немало наследников Черного Отряда, потомков воинов Грифов, Питонов и Леопардов. Этих сильных, рослых и выносливых рабов охотно скупали карфагенские работорговцы, поставляя живой товар на плантации в Карибском море – Новую Сицилию (Гаити), Новую Калабрию (Ямайка), Новые Балеары (Малые Антилы) и особенно – в Новую Африку (Куба). Именно на последнем острове оказалось больше всего рабов из Ифе, Бенина и Нри. Смута, охватившая Карфаген в 1370-е, а также разрыв с Нормандией ослабили его контроль над колониями, чем тут же воспользовались рабы, устроившие грандиозное восстание на Кубе. Несколько лет здесь существовало королевство черных рабов, во главе с потомками воинов Черного Отряда. Лишь в 1380 году Карфаген нашел достаточно средств и людей, чтобы отправить за океан сильный флот и усмирить взбунтовавшуюся колонию. Однако, явившись в Новую Африку, карфагеняне нашли лишь немногих из тех, кого собрались наказывать. Большинство восставших, не дожидаясь карателей, решили покинуть Кубу, используя захваченные ими корабли. В 1377 году войско бывших рабов высадилось на земле, известной им по рассказам хозяев – на Юкатане. Карфагеняне подумывали о том, чтобы догнать и покарать рабов, но тут начались восстания и в других колониях, в регион все более активно проникали иные страны и колонизаторы в итоге махнули на беглых рабов рукой. На Юкатане тем временем шла война – династия Кокомов из Майяпана пыталась удержать в покорности города-государства майя восставшие против деспотической власти. Чернокожие рабы, многие из которых еще не забыли воинское дело, а также обзавелись оружием, отобранным у карфагенских хозяев, подались в наемники к Кокомам. В конце 14-го начале 15-го веков, с помощью черных наемников, Майяпан покорил весь Юкатан, после чего царь Майяпана, Хунак Титуль-Шиу, попытался избавиться от наемников. Возмущенные чернокожие немедленно свергли царя, после чего вождь восставших рабов (бывший Гриф и родственник царя Нри), Экиан, взял в жены дочь Хунака Титуль-Шиу, провозгласив Юкатанскую Империю. Это государство, очень скоро начало экспансию по всем направлениям, из которых наиболее перспективным оказалось северное. Тем временем, в долине Мехико столица ацтеков Теночтитлан воевала со своим бывшим покровителем городом Ацкапотцалько. В 1420 году афромайянцы помогли ацтекам свергнуть власть Ацкапотцалько, после чего преемник Экиана, Олауда, устроил брак своего сына с дочерью тлатоани ацтеков Ицкоатля. Сын от этого брака Ашаякоатль стал правителем уже единого государства, объеденившего долину Мехико с Юкатаном. Так родилась империя Эшутлан: страна черного колдовства, «живых мертвецов», каннибальских обрядов, бесконечных войн и жестоких богов, ежедневно пьющих жертвенную кровь на вершинах ступенчатых зиккуратов.
- 23 ответа