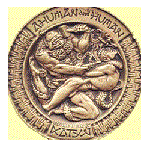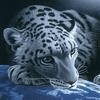
Призрак коммунизма
Автор
wizard,
Создайте учётную запись или войдите для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учётную запись
Зарегистрируйтесь для создания учётной записи. Это просто!
Зарегистрировать учётную запись
-
Похожие публикации
-