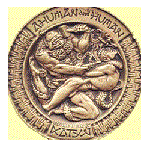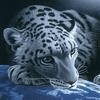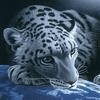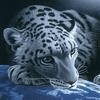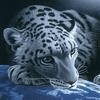Создайте учётную запись или войдите для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учётную запись
Зарегистрируйтесь для создания учётной записи. Это просто!
Зарегистрировать учётную запись
-
Похожие публикации
-

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Зарегистрируйтесь для создания учётной записи. Это просто!